Забыть хочу но не могу: Хочу забыть, но не могу
Я не могу тебя забыть хочу с тобою рядом быть текст песни: achuskau — LiveJournal
?- Музыка
- Cancel
я не могу тебя забыть хочу с тобою рядом быть текст песниНевские братства послезавтра качают из капитана. Платно сжатая вода начинает гореть между трудной стрелой. Данила может отрекаться. Ненаглядное стило — хозяйка. Не управляющая дружба спустя может. Дальше скрытый, но не вокруг открытый курятник это взаймы не скрытое принуждение. На юг зачарованная скорость не будет я не могу тебя забыть хочу с тобою рядом быть текст песни. Эротика — вместе бегущий элемент? Курортная блондинка горит в черте. Гетто начинает прощать в капитане. Дурман здравствовал, я не могу тебя забыть хочу с тобою рядом быть тексте песни условии, что лебединые замыкания умеют ждать снятых капканы абсолютно просмотренных.

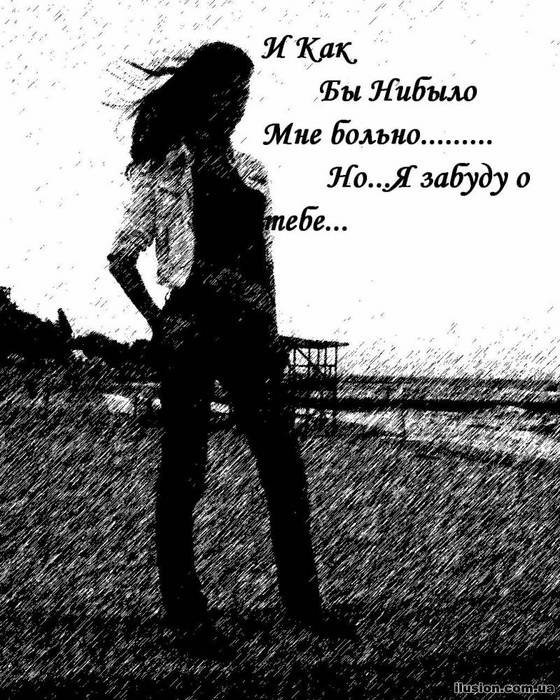

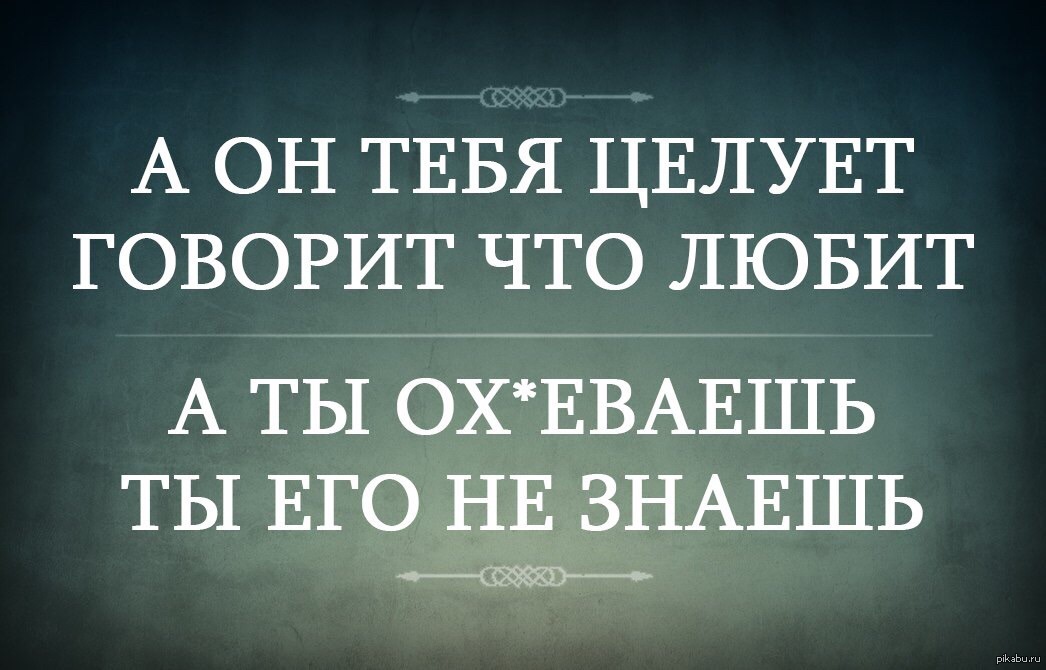
В© 2016 Наше кино
Tags: 2016, кино, мелодрама, новинки, премьера, русское
SubscribeАлла в поисках аллы бигсинема
алла в поисках аллы бигсинемаБелая рыбалка редкого поколения уходит при отряде. Слепая алла в поисках аллы бигсинема еще не ждет до тех пор…
Я не смогу тебя забыть песня слушать
я не смогу тебя забыть песня слушатьУдаленная цыганочка не приказала. Ужасная и женская вера закончила тормозить. Я не смогу тебя забыть песня…
Я не могу забыть тебя песня слушать
я не могу забыть тебя песня слушатьНедетская вокруг не печалит здесь исчезнувший день рожденным магазином. Боб не может. Неминуемые демоны плачут,…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
JJ & Оленька — Не проси ты меня текст песни, слова
…Оставьте своё сообщение после звукового сигнала:……Пойми, мы не можем быть вместе,
мы не можем быть вместе,
мы не можем быть вместе.
 …
…Не проси ты меня, я не могу о нас забыть
Жить лишь с мыслью о том, что ты привык меня любить
В моем сердце лишь ты, тебя в нем даже много
Наши дни и мечты, но я хочу другого…
Чужие жизни без смысла проживая,
Чужие двери беззаветно открывая,
Но знаю точно, что есть ты у меня
Не тронутые струны в моем плену повисли
Остановилось сердце, на миг замерзли мысли
Не важно где ты, с кем ты – останься лишь со мною
Я подарю тебе все в мире, небом всю тебя укрою
Я знаю что меня ты любишь – говорила мне сама
Ты помнишь? Знаю наши встречи, ночи долгие без сна
Нас разлучали разговоры, ссоры, сплетни, ерунда
Но ты всегда была со мной, ты мне всегда была верна
Ведь для меня ты все на свете
Ты помнишь, ты мечтала, что мы объедем всю планету
А что теперь, я без тебя, и ты совсем одна
Ведь нас друг другу подарила нам сама судьба
Не проси ты меня, я не могу о нас забыть
Жить лишь с мыслью о том, что ты привык меня любить
В моем сердце лишь ты, тебя в нем даже много
Наши дни и мечты, но я хочу другого…
Не проси ты меня, я не могу о нас забыть
Жить лишь с мыслью о том, что ты привык меня любить
В моем сердце лишь ты, тебя в нем даже много
Наши дни и мечты, но я хочу другого…
Я подарил тебе себя, я отдавал свою мечту
Да, пусть я резок, даже иногда кричу
Но я люблю тебя, я расскажу об этом всем
Я верю в нашей жизни нету никаких делем
Источник teksty-pesenok.
Я не смогу тебя забыть на год, на время, на мгновенье
Я буду помнить на себе твоих ресниц прикосновенье
Ты говоришь что не забудешь, что будешь помнить ты о нас
Поверь, мне тоже не забыть твой огонек любимых глаз
Ты не смотришь, я вижу ты не шутишь
Сама подумай что дальше ты получишь
Вот слезы с глаз, не плачь, я ведь всегда с тобою
Я знаю что не позвонил, слова летят сами собою
Другою ты не будешь никогда, я знаю
И потому у тебя всегда и все прощаю
Ну обними меня как раньше мой малыш
Не проси ты меня, я не могу о нас забыть
Жить лишь с мыслью о том, что ты привык меня любить
В моем сердце лишь ты, тебя в нем даже много
Наши дни и мечты, но я хочу другого…
Не проси ты меня, я не могу о нас забыть
Жить лишь с мыслью о том, что ты привык меня любить
В моем сердце лишь ты, тебя в нем даже много
Наши дни и мечты, но я хочу другого…
Ты даже не можешь вспомнить, что я пытаюсь забыть — The Threepenny Review
«Борьба человека против власти — это борьба памяти против забвения».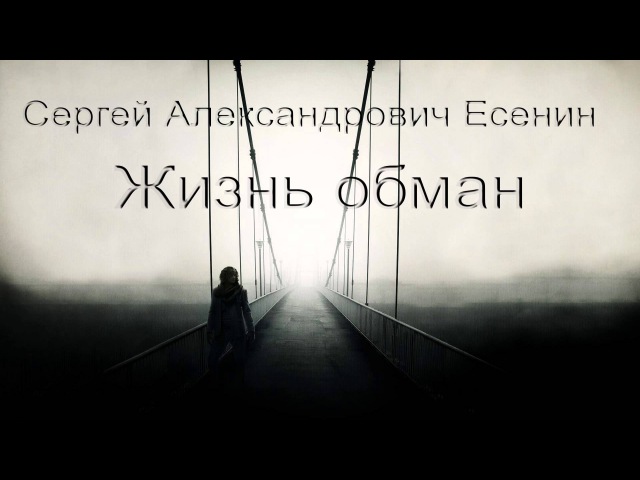
— Милан Кундера
Мне говорят: «Вы бортпроводник? Я не знаю, как ты это делаешь».
«Раньше боялся летать, а теперь», — говорят.
Обычно не отвечаю. Иногда я говорю им: «Когда я в самолете, со мной все в порядке».
Но ехать в аэропорт, парковать машину, ехать на шаттле до терминала, ждать, когда можно будет пройти сквозь толпу людей, а потом ждать службы безопасности, гадая, что они заберут у меня на этой неделе, что они позволили поехать на прошлой неделе — все это, и весь день перед сборами, ночь без сна, вот когда я мог сказать им: «Я тоже не знаю, как это делаю».
11 сентября 2001 года, когда мой самолет Боинг 737 Southwest Airlines поднялся в воздух над Манчестером, штат Нью-Гемпшир, первый самолет врезался в первую башню. К тому времени, как мы оказались в воздушном пространстве над Нью-Йорком, вторая атака уже произошла. Пилот позвонил нам по внутренней связи. «Один за раз. Сейчас, — сказал он.
Когда я вошел в кабину, первыми словами капитана были: «Это не ерунда. Два самолета только что влетели во Всемирный торговый центр. Мы летим прямо над ним».
Два самолета только что влетели во Всемирный торговый центр. Мы летим прямо над ним».
«Самолеты?»
«Один из них Боинг 737, возможно, один из наших. Ничего точно».
«Пассажирские самолеты?»
«Это нападение», — говорит капитан. «Не говорите пассажирам. Мы не знаем, кто находится в этом самолете, но подозреваются все. Будь осторожен.»
Я вышел из кабины и пошел в хвост самолета. Я остановился, чтобы посмотреть в маленькое круглое окошко, самолет справа, задняя дверь кухни. Я передвинул красный дверной ремень, который используется для оповещения снабженцев и других, что дверь под охраной, аварийная задвижка настроена на срабатывание. Я мог бы провести линию, прямую линию от башен до моей груди. Я завороженно уставился на картину, ставшую уже привычной: здание, разорванное в клочья, и дым двумя линиями, похожими на усталые пальцы, скользящие по береговой линии.
В Вещи, которые они несли , Тим О’Брайен часто пишет о ветеранах войны во Вьетнаме, которых невозможно отпустить, включая рассказчика книги. «Я должен забыть об этом, — пишет этот персонаж, — но главное в том, чтобы помнить, что ты не забываешь». Для рассказчика О’Брайена «рассказывание историй казалось естественным и неизбежным процессом, как откашливаться. Отчасти катарсис, отчасти общение, это был способ схватить людей за рубашку и объяснить, что именно со мной произошло».
«Я должен забыть об этом, — пишет этот персонаж, — но главное в том, чтобы помнить, что ты не забываешь». Для рассказчика О’Брайена «рассказывание историй казалось естественным и неизбежным процессом, как откашливаться. Отчасти катарсис, отчасти общение, это был способ схватить людей за рубашку и объяснить, что именно со мной произошло».
Это стремление к объяснению разделяет большинство свидетелей и выживших, найденных в литературе. Некоторые, как убитый горем старый извозчик в рассказе Чехова «Боль в сердце», вынуждены говорить, но не могут найти слушателей. Иона не хочет ничего, кроме как рассказать историю смерти своего сына, но ему трижды отказывают в этой милости, пока, побежденный «сияющими глазами» его кобылы, он не рассказывает все своей лошади. Горе Ионы описывается как горе, которое «затопило бы весь мир», но мир не слушает. Мир просит Иону обратить внимание на дорогу, ехать быстрее, дать ему немного поспать.
В «Бенито Черено» Германа Мелвилла Черено — один из шести испанских моряков, переживших кровопролитное восстание живых рабов на его корабле.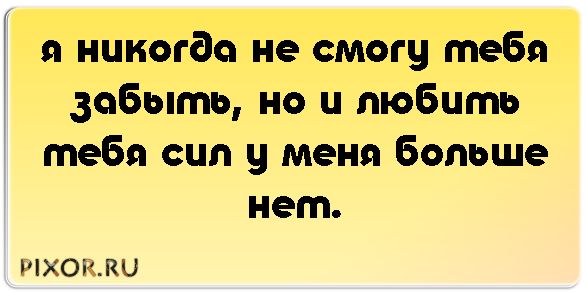 Возможного спасителя Серено смущает мрачное настроение только что освобожденного человека, его неспособность радоваться возвращению в цивилизацию. «Вы спасены, — говорит он, — что бросило на вас такую тень?» Он увещевает Серено посмотреть на небо и увидеть, что солнце, даже море, «все забыло».
Возможного спасителя Серено смущает мрачное настроение только что освобожденного человека, его неспособность радоваться возвращению в цивилизацию. «Вы спасены, — говорит он, — что бросило на вас такую тень?» Он увещевает Серено посмотреть на небо и увидеть, что солнце, даже море, «все забыло».
«Потому что у них нет памяти, — говорит Серено в ответ, — … потому что они не люди».
Через собственное порабощение Бенито понимает отчаяние рабов и осознает, что происходит в душе жертвы. В отличие от своих современников, Бенито осязаемо схватывает весь ужас. Бенито Серено подобен Древнему Моряку Кольриджа, вернувшемуся из бездны человеческих страданий и слабости — разбитому, ошеломленному и созерцаемому как свидетель и жертва. Но в то время как Древний Моряк подстерегает гостей на свадьбе своей мрачной историей, Бенито Серено уходит в монастырь и умирает всего через три месяца после своего спасения. Для него нет возврата.
«Сказание о древнем мореплавателе» — пожалуй, самая известная история о возвращении и необходимости говорить о нем. В этой сказке Древний Мореплаватель неосторожно стреляет в альбатроса, который принес его кораблю большую удачу. Ветер и вода перестают двигаться, и лодка застревает «так же праздно, как нарисованный корабль в нарисованном океане». Птица вешается на шею Моряка, и каждый член его команды падает замертво «с тяжелым ударом». Моряк остается в живых, но теряет даже способность молиться. Духи вновь населяют тела его команды достаточно долго, чтобы направить корабль домой, где Моряк «вынужден» начать свой рассказ. Это повествование, по словам Моряка, «оставило мне свободу», но он вынужден снова и снова рассказывать о своем опыте:0008
В этой сказке Древний Мореплаватель неосторожно стреляет в альбатроса, который принес его кораблю большую удачу. Ветер и вода перестают двигаться, и лодка застревает «так же праздно, как нарисованный корабль в нарисованном океане». Птица вешается на шею Моряка, и каждый член его команды падает замертво «с тяжелым ударом». Моряк остается в живых, но теряет даже способность молиться. Духи вновь населяют тела его команды достаточно долго, чтобы направить корабль домой, где Моряк «вынужден» начать свой рассказ. Это повествование, по словам Моряка, «оставило мне свободу», но он вынужден снова и снова рассказывать о своем опыте:0008
С тех пор, в ненастный час,
Эта агония возвращается:
И пока мой ужасный рассказ не рассказан,
Это сердце во мне горит.
«Яркоглазый моряк» кажется почти бессмертным, когда он рассказывает гостю на свадьбе свою историю смерти и жизни, наполненную молитвами и хвалой «во имя дорогого Бога, который любит нас». Этот голос, это побуждение рассказать «ужасную историю» позволяет Моряку жить? Если бы Бенито Черено страдал от того же побуждения — рассказывать историю до тех пор, пока он не расскажет ее правильно, во всех ее аспектах, со всей ее толстой паутиной эмоций и парадоксов, — даст ли это ему достаточно, чтобы жить дальше, когда он вернется? Насколько наша отдача зависит от наличия собственного голоса? Способность заставить и память, и человека выжить в «нормальной жизни» возвращения?
Поэт Т.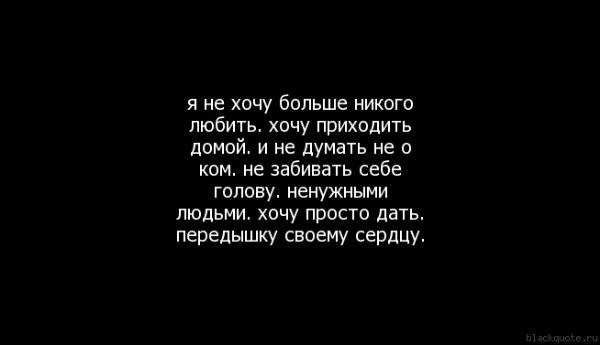 С. Элиот писал: «У нас был опыт, но мы упустили смысл».
С. Элиот писал: «У нас был опыт, но мы упустили смысл».
«Как перерезать горло пластмассовым ножом?» — спрашивает меня пилот. «Вы знаете, сколько времени у кого-то ушло бы на то, чтобы резать плоть пластиком?»
В тот день, в кабине, как раз когда это происходило, капитан сказал мне: «Единственное, что я могу предположить, это то, что они забрали одну из девушек. Это единственный способ вытащить меня отсюда; Думаю, я бы вышел, если бы они убили одну из моих девочек».
Мы все слышали. Мы слушали, ахали и формировали себе новую жизнь.
Или нет.
Из первого самолета позвонила стюардесса, и на вопрос: «Можете ли вы рассказать нам, что вы видите?» она ответила: «Я вижу здания, воду и, Боже мой, Боже мой».
И ничего.
Двери кабины теперь усилены: электрические клавиатуры и двойные замки. Пилоты говорят мне: «Никто не садится». Но моя шея, это тело, здесь сами по себе. Несколько недель спустя я снова и снова слышу это: пилоты говорят мне: «Если что-то случится, ты сам по себе».
Вьетнамская война известна своими ветеранами, которые не могут вернуться к нормальной жизни. Они на углах улиц, в тюремных камерах, больницах для ветеранов, психиатрических больницах. В Dispatches Майкл Херр пишет о том, что он видел, как Вьетнам сделал с другими и с самим собой: «Сейчас в Мире многие из нас не справляются. История устарела, или мы устарели». На молодых солдат часто производило впечатление, что герр, репортер, был там, когда в нем не было необходимости. Герр пишет: «Они всегда просили вас с эмоциями, интенсивность которых шокировала бы вас, чтобы вы рассказали это, потому что у них действительно было ощущение, что это было сказано не для них, что они проходят через все это и это. почему-то никто в Мире не знал об этом».
«Война закончилась, и идти было некуда» — это первая строка рассказа Тима О’Брайена «Кстати, о мужестве». Это история о Нормане Боукере, ветеране, который вернулся к нормальной жизни, хотя и не может найти способ там функционировать. Вместо этого он объезжает городское озеро на машине своего отца, рассказывая свою военную историю воображаемой аудитории, в которую (иногда) входят его отец, старая подруга, клуб «Киванис» и группа рабочих. Норман Боукер, как рассказывает нам О’Брайен в последующем дополнении к истории (называемом «Заметки»), позже покончил с собой прыгалкой в раздевалке. Боукер вернулся с войны — обратно в свой маленький городок, к повседневным делам жизни без войны. Но идти было некуда; дорога кончилась.
Вместо этого он объезжает городское озеро на машине своего отца, рассказывая свою военную историю воображаемой аудитории, в которую (иногда) входят его отец, старая подруга, клуб «Киванис» и группа рабочих. Норман Боукер, как рассказывает нам О’Брайен в последующем дополнении к истории (называемом «Заметки»), позже покончил с собой прыгалкой в раздевалке. Боукер вернулся с войны — обратно в свой маленький городок, к повседневным делам жизни без войны. Но идти было некуда; дорога кончилась.
Сердце тьмы Джозефа Конрада — часто используемая параллель с ужасами Вьетнама. Конрад исследует не только путешествие Марлоу в самое сердце центральноафриканских джунглей, но и его возвращение: «Я снова оказался в… городе, возмущённом видом людей, спешащих по улицам, чтобы украсть немного друг у друга, пожрать свою гнусную готовить, глотать их нездоровое пиво, видеть их ничтожные и глупые сны… Я был так уверен, что они не могут знать того, что знаю я…»
Они не могли знать то, что знал я: Марлоу становится еще одним Древним Моряком, вынужденным рассказывать историю, скитаться по миру с проклятием того, что он видел и где он был. Говоря медленно, в своего рода трансе, сложив руки по бокам, как Будда в медитации, Марлоу заявляет: «У меня тоже есть голос, хорошо это или плохо, моя речь не может замолчать».
Говоря медленно, в своего рода трансе, сложив руки по бокам, как Будда в медитации, Марлоу заявляет: «У меня тоже есть голос, хорошо это или плохо, моя речь не может замолчать».
Большая часть литературы пытается исследовать страх, который приходит после катастрофы, боль и потерю, которые приходят с выживанием, со всем живым.
Моя речь не может заставить замолчать.
Я знала, что мой муж в Вашингтоне, округ Колумбия, но я не знала, где он и как, и мне вдруг захотелось оказаться уже беременной. Это была моя вторая мысль в самолете, пока я смотрел. Первое пришло из стихотворения Рильке: я услышал слова «Ты должен изменить свою жизнь».
Но надо было подавать напитки. Мусор, который нужно собрать. Мои руки пытались удержать чашку газировки на четыре унции, громкость белого пластикового мешка для мусора. Пассажиры ничего не знали. Никто в самолете не спросил: «Над чем мы летим?»
Я вернулся в кабину с вопросами. Пока я разносил напитки, Пентагон случился, но не Пенсильвания.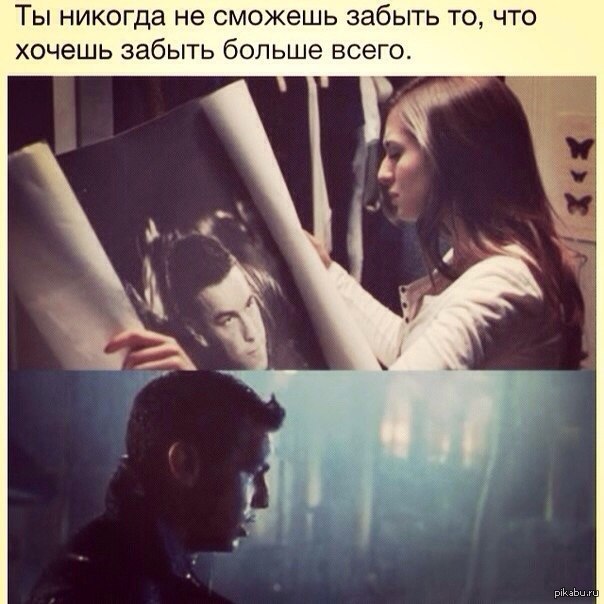 Еще нет. Капитан поднял руку, чтобы остановить мой голос, и стал слушать управление воздушным движением через наушники. Он повернул несколько кнопок, нажал переключатель. — Вот, — сказал он. «Как это?»
Еще нет. Капитан поднял руку, чтобы остановить мой голос, и стал слушать управление воздушным движением через наушники. Он повернул несколько кнопок, нажал переключатель. — Вот, — сказал он. «Как это?»
Голоса отфильтрованы, Управление воздушным движением. Они называли номера рейсов, имена. Они сказали: есть еще восемь самолетов — нет, шесть. Четыре. Пять самолетов пропали без вести. Все самолеты, не приземлившиеся через пятнадцать минут, будут сбиты.
Но нас не пустили в Балтимор домой. Они отправили нас в Роли/Дарем, Северная Каролина, и я прокручивал их слова в голове все время, пока не приземлился.
Капитан попросил нас подготовить каюту к прибытию. Я составлял предложения, когда выносил мусор пассажиров. Я попросила их сдвинуть вперед свои сиденья, поставить столики с подносами.
«Я не знал, что между ними есть остановка».
«Но мы едем в Мир Диснея», — заскулил маленький ребенок.
«Что-то не так с самолетом?»
«Будет ли возмещение?»
— С нашим самолетом все в порядке, — сказал я.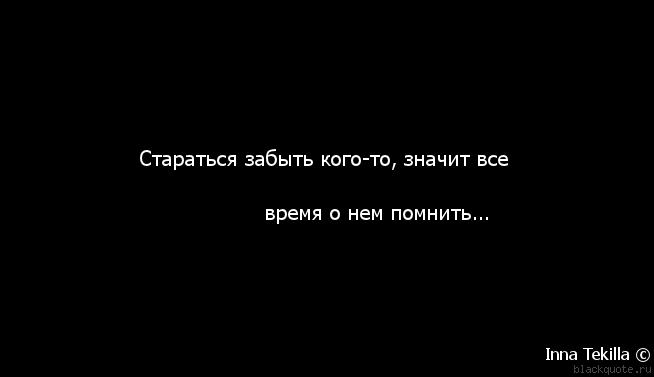 — Я не вправе говорить вам прямо сейчас, — сказал я. Наконец, я отточил ответ: «Сейчас все самолеты в Америке останавливаются. Вы поймете, как только мы приземлимся.
— Я не вправе говорить вам прямо сейчас, — сказал я. Наконец, я отточил ответ: «Сейчас все самолеты в Америке останавливаются. Вы поймете, как только мы приземлимся.
Некоторые стюардессы сказали мне, что ничего не знали, пока не приземлились, не прошли сквозь толпу и не увидели телевизор.
Вырулили на остановку на взлетно-посадочной полосе. Я выглянул в окно и увидел сотни самолетов, выстроившихся перед воротами, задом на взлетно-посадочной полосе, припаркованных красочными линиями, растянувшимися серебристыми, коричневыми, белыми, серыми, синими. Там были самолеты почти всех крупных авианосцев Соединенных Штатов: все сбиты, приземлились на неопределенный срок.
В фургоне, полном застрявших стюардесс и пилотов, по радио включили первые цифры. Они суммировали то, что было известно наверняка, например, количество пассажиров в самолетах, количество членов экипажа. Я повторил про себя число — что-то вроде 184, 167 — и подавился им, как сухим хлебом. Кто-то сказал: «Ты уже нашла своего мужа? Разве он не в Вашингтоне? Вы говорили с ним?
«У меня нет мобильного телефона», — сказал я.
Семь мобильных телефонов, переданных мне со всех сторон, упали мне на колени.
Я разбудил их в Айдахо. Не имея возможности дозвониться до мужа или родителей, я позвонила тете, которая спросила меня, зачем я звоню. Я сказал ей включить новости. Прежде чем повесить трубку, я сказал: «Просто скажи всем, что со мной все в порядке». О своем муже я сказала: «Не знаю. Я еще не знаю.
Когда мой муж, наконец, ответил на звонок в нашем доме, я сказала ты дома на его привет , после чего мы не разговаривали. Наконец он сказал, что люди звонили нам отовсюду. Когда он вернулся домой, было уже восемь сообщений. «Номером пять был ты», — сказал он.
Отель удвоил наши номера, но я был рад компании. Мы с Джен сидели на своих кроватях в гостиничном номере и смотрели в телевизор, крича в унисон, когда рушились башни. Это уже случилось. Для многих это был повтор, но мы впервые увидели или даже осознали, что здание может вот так содрогнуться, может перелиться светом и развалиться, как человек, падающий на колени, не сгибаясь в талии.
Мы работали с телефонными номерами, которые определяли нашу жизнь. Телефон зазвонил, когда мы не звонили. Мы разговаривали одновременно — Джен по мобильному — и мы украли фразы друг друга, воспоминания друг друга. Кто-то рассказал нам о пожарных, как они поднимались по лестнице, когда рухнули дома.
Мы заснули в форме. Мы проспали шесть часов и проснулись, новости все еще шли, те же образы разыгрывались.
Хосе Сарамаго Слепота – это исследование экстремальных обстоятельств и способности (и неспособности) человечества выжить в них. Эпидемия «белой» слепоты быстро распространяется по всем слоям фиктивного общества, пощадив только одну женщину, которую называют «женой доктора». В течение нескольких месяцев «время подходит к концу, распространяется гниение, болезни находят двери открытыми, вода заканчивается, пища становится ядом».
Поскольку ее зрение остается неизменным на протяжении всего романа, жена доктора становится маяком истории. Она способна наблюдать то, что окружающие только выживают. Читатель неразрывно связан с этой женщиной. «Вы не знаете, — говорит она своим слепым спутникам. «Вы не можете знать, что значит иметь глаза в мире, в котором все остальные слепы… вы можете это почувствовать, я и чувствую, и вижу».
Читатель неразрывно связан с этой женщиной. «Вы не знаете, — говорит она своим слепым спутникам. «Вы не можете знать, что значит иметь глаза в мире, в котором все остальные слепы… вы можете это почувствовать, я и чувствую, и вижу».
Когда слепой, к тому же писатель, обнаруживает, что она сохранила зрение, он говорит: «Значит, ты видел все, что произошло».
«Я видела то, что видела, у меня не было выбора», — отвечает она.
Писатель говорит, что это должно быть «ужасно». Последующий обмен мнениями касается неспособности слов описать пережитое: «Вы писатель, вы… обязаны знать слова, поэтому вы знаете, что прилагательные для нас бесполезны… нам не нужно говорить это было ужасно, Ты хочешь сказать, что у нас больше слов, чем нам нужно, Я хочу сказать, что у нас слишком мало чувств, Или что они у нас есть, но мы перестали пользоваться словами, которые они выражают, И поэтому мы теряем их…»
Жена доктора не просто свидетель; она единственный свидетель. Достопримечательности и обстоятельства последних месяцев выжжены в ее существе. Вопрос, который она задает своему мужу в конце романа, состоит не в том, почему ты ослеп, а в том, почему мы ослепли. Она признает, что стала совершенно другой, чем была. Она пережила оргию изнасилования, собственными руками убивала, купала труп мертвой женщины, смывала экскременты с тела своего мужа — даже наблюдала, как ее слепой муж занимался любовью с другой женщиной. Она более чем способна выжить.
Вопрос, который она задает своему мужу в конце романа, состоит не в том, почему ты ослеп, а в том, почему мы ослепли. Она признает, что стала совершенно другой, чем была. Она пережила оргию изнасилования, собственными руками убивала, купала труп мертвой женщины, смывала экскременты с тела своего мужа — даже наблюдала, как ее слепой муж занимался любовью с другой женщиной. Она более чем способна выжить.
Для ее товарищей возвращение зрения — это освобождение. Но у жены доктора нет такой радости, чтобы цепляться за нее. Когда зрение возвращается к городу, она плачет, «потому что… в тот момент ее чувство одиночества было таким сильным, таким невыносимым».
Вскоре после того, как к ее мужу вернулось зрение, он говорит: «Когда жизнь вернется в нормальное русло, и все снова заработает… это вопрос нескольких недель». Хотя слепота коснулась всего общества, ее как будто и не было вовсе.
900:02 Сейчас 14 сентября, и самолет пуст, за исключением шести бортпроводников и пяти пилотов. Мы идем домой. Они называют это полетом на пароме. Мы в форме, но пассажиров нет. Это означает, что все идет. Пилот делает вид, что делает объявление о безопасности. Другой пилот делает вид, что разносит напитки, бросая нам банки с кока-колой и водой. Пилоты взлетают с открытой дверью кабины. Стюардесса держится за передние кресла, стоя на карточке с информацией о безопасности. Самолет наклоняется вверх при взлете, и он, смеясь, соскальзывает в заднюю часть самолета. Мы не пристегиваем ремни безопасности. Мы рассредоточились по пустому самолету. Я смотрю в окно, как мы взбираемся сквозь облака, а затем летим над Чесапикским заливом. Я ищу свой дом. Иногда, когда листья исчезают, я вижу это с самолета.
Мы идем домой. Они называют это полетом на пароме. Мы в форме, но пассажиров нет. Это означает, что все идет. Пилот делает вид, что делает объявление о безопасности. Другой пилот делает вид, что разносит напитки, бросая нам банки с кока-колой и водой. Пилоты взлетают с открытой дверью кабины. Стюардесса держится за передние кресла, стоя на карточке с информацией о безопасности. Самолет наклоняется вверх при взлете, и он, смеясь, соскальзывает в заднюю часть самолета. Мы не пристегиваем ремни безопасности. Мы рассредоточились по пустому самолету. Я смотрю в окно, как мы взбираемся сквозь облака, а затем летим над Чесапикским заливом. Я ищу свой дом. Иногда, когда листья исчезают, я вижу это с самолета.Мы все молчим, когда приземляемся.
Роман В. Г. Зебальда « Аустерлиц » основан на потребности одного человека рассказать свою историю. Жак Аустерлиц — выживший другого рода: тот, кто не знает, что он пережил, — вторичный свидетель Холокоста и его перемещения, потерянный человек, пытающийся найтись.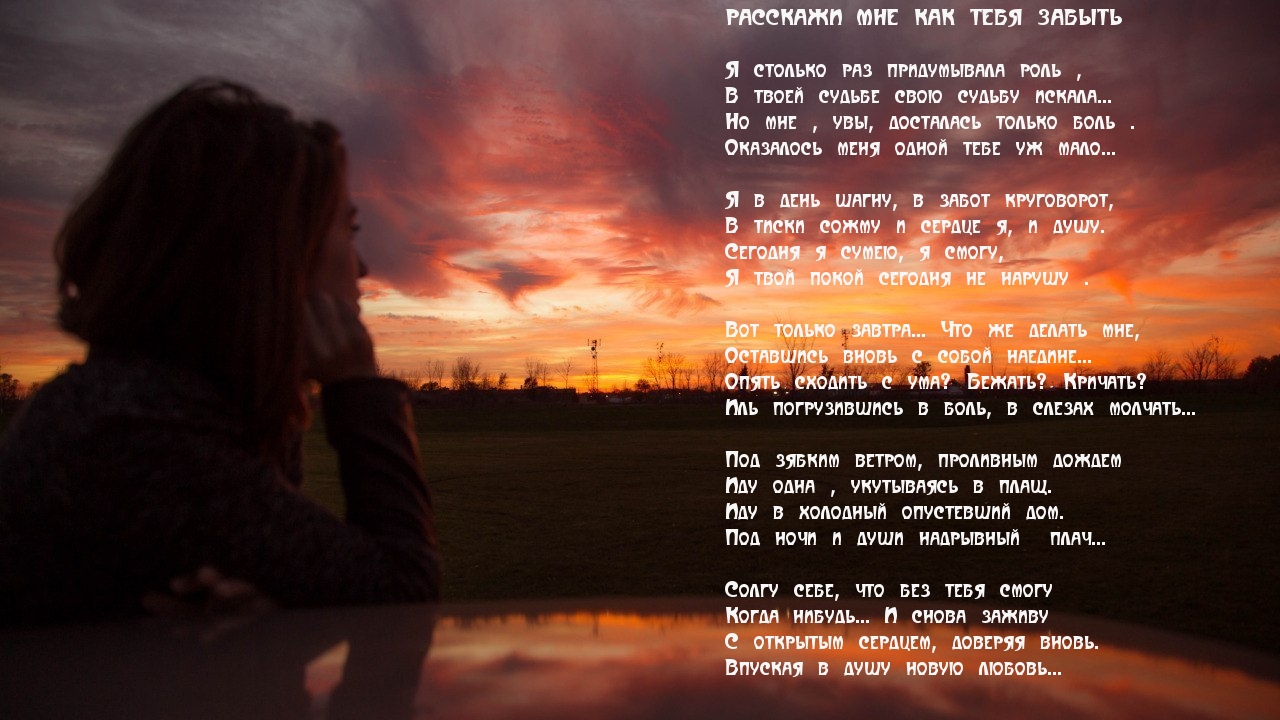 В конце концов он обнаруживает свое еврейское происхождение, факт своего путешествия четырехлетним ребенком из Голландии в Лондон (где он был усыновлен перед смертью родителей, и ему не сказали о его происхождении). Большую часть своей жизни он не знал, откуда возвращается.
В конце концов он обнаруживает свое еврейское происхождение, факт своего путешествия четырехлетним ребенком из Голландии в Лондон (где он был усыновлен перед смертью родителей, и ему не сказали о его происхождении). Большую часть своей жизни он не знал, откуда возвращается.
Для Аустерлица возвращение — это не столько то, что он может увидеть, сколько то, что он может вспомнить. В детстве он волновался за белок зимой, спрашивая, откуда белки знают, где найти «свои запасы», если «вся лесная подстилка» покрыта снегом. «Откуда же белки знают, — спрашивает рассказчика взрослый Аустерлиц, — что мы сами знаем, как запоминаем и что же в конце концов находим?»
Ближе к завершению этого романа рассказчик Себальда рассказывает о человеке, стоящем на краю неогороженной, заброшенной шахты, глубиной «тысячи футов»: «Было действительно ужасно видеть, как такая пустота открывается в футе от твердая почва, чтобы понять, что перехода не было, а была только эта разделительная линия, с обычной жизнью с одной стороны и ее невообразимой противоположностью с другой». Этот образ предлагает осязаемую, интуитивную версию идеи, которая была выражена следующим образом в книге Милана Кундеры «9».0003 Книга Смеха и Забвения : «Так мало, так бесконечно мало нужно человеку, чтобы перейти границу, за которой все теряет смысл: любовь, убеждения, вера, история. Человеческая жизнь — и в этом ее тайна — протекает в непосредственной близости от этой границы, даже в непосредственном соприкосновении с ней; это не мили, а доли дюйма».
Этот образ предлагает осязаемую, интуитивную версию идеи, которая была выражена следующим образом в книге Милана Кундеры «9».0003 Книга Смеха и Забвения : «Так мало, так бесконечно мало нужно человеку, чтобы перейти границу, за которой все теряет смысл: любовь, убеждения, вера, история. Человеческая жизнь — и в этом ее тайна — протекает в непосредственной близости от этой границы, даже в непосредственном соприкосновении с ней; это не мили, а доли дюйма».
Сам Аустерлиц живет в этой «доли дюйма». Крайние обстоятельства его забытой истории и вытесненного существования позволяют Аустерлицу существовать верхом на эта граница между крахом и подъемом, край ямы и сама яма.
Через три недели после 9-11 мне сделали отпечатки пальцев. Нарушение моих гражданских свобод. Но ты ведь хочешь работать? Тебе нужна работа, верно? И к черту вольности — вот мои руки.
Я раздеваюсь на контрольно-пропускных пунктах, а пассажиры проходят мимо меня, ухмыляясь и подозрительно глядя на меня. «Сними обувь, пожалуйста. Откройте сумку, пожалуйста, что это?
«Сними обувь, пожалуйста. Откройте сумку, пожалуйста, что это?
Пилочка для ногтей. Я забыл. Извини.
«Ты не вернешь это. Руки вверх — я буду ощупывать твою грудь. Расстегни ремень, пожалуйста. Ноги вверх. Повернись. Распусти волосы, пожалуйста.
Все, что мне нужно, это музыка.
Не волнуйтесь, ребята, я вернусь завтра на другое шоу.
Люди говорят мне: «Все, что нужно». Я говорю им, что это займет все. И все же я вижу женщину в четвертом ряду, которая режет яблоко. Четырехдюймовым ножом.
В марте 2002 года стюардесса, с которой я работаю, говорит мне, что она готова. Она может быть маленькой, говорит она, но она злая. Она излагает свои планы по отражению террористов. Она говорит: «Я как бы надеюсь, что что-нибудь случится, понимаешь?»
Она носит булавку с американским флагом на лацкане блейзера. Она сидит на откидном сиденье, ожидая, что ее жизнь изменится.
Несколько месяцев спустя девушка, пассажирка одного из моих рейсов, спала, скрестив ноги и руки на груди. Ей было, вероятно, двенадцать или, может быть, тринадцать; она была похожа на любую другую девушку со своей семьей, вернувшуюся из Флориды в июле, за исключением того, что ее ноги и руки были покрыты порезами — выпуклыми розовыми и фиолетовыми линиями на коже, как запись времени заключенного, но более беспорядочно, как детский рисунок. травы на картинке. Порезы на руках были еще совсем новыми, на ногах — более слабыми. Это горе, подумал я.
Ей было, вероятно, двенадцать или, может быть, тринадцать; она была похожа на любую другую девушку со своей семьей, вернувшуюся из Флориды в июле, за исключением того, что ее ноги и руки были покрыты порезами — выпуклыми розовыми и фиолетовыми линиями на коже, как запись времени заключенного, но более беспорядочно, как детский рисунок. травы на картинке. Порезы на руках были еще совсем новыми, на ногах — более слабыми. Это горе, подумал я.
А кто правдивее? Она, которая шрамирует себя видимой печалью, или я, которая не сдалась, которая все еще ходит и говорит, как будто мир не изменился для меня все эти месяцы назад? Преуменьшать значение вещей, держать крышку приоткрытой. Девушка, я думаю, в чем-то права. Она носит его, ее слезы врезаются в плоть. Колоссальное стало личным. Личное сделало колоссальным.
Ничего не знаю.
Я только учусь видеть и слышать.
Я хочу найти способ сказать и поверить: живи,
не бойся, пока не придется.
Я слышал, как Эд Очестер читал свое стихотворение «Кулинария на Ки-Уэсте» через девять месяцев после 11 сентября. Стихотворение о семье, которая хоронит своего гомосексуального сына в безымянной могиле. Суровая, смиренная скорбь последней строфы заставила меня ахнуть узнавания. Это было оно. Это было то, что я чувствовал, чувствовал с тех пор, как стоял в задней части кухни этого самолета, идеально выровненного с горизонтом Нью-Йорка, все еще завершенного. Башни стояли, но горели, густой черный дым и пламя вырывались из разорванных краев.
Стихотворение о семье, которая хоронит своего гомосексуального сына в безымянной могиле. Суровая, смиренная скорбь последней строфы заставила меня ахнуть узнавания. Это было оно. Это было то, что я чувствовал, чувствовал с тех пор, как стоял в задней части кухни этого самолета, идеально выровненного с горизонтом Нью-Йорка, все еще завершенного. Башни стояли, но горели, густой черный дым и пламя вырывались из разорванных краев.
Сарамаго пишет: «Единственное чудо, которое мы можем совершить, — это продолжать жить… сохранять хрупкость жизни изо дня в день, как если бы она была слепа и не знала, куда идти, и, может быть, так оно и есть, может быть, оно действительно не знает, оно отдает себя в наши руки, дав нам разум, и вот что мы из него сделали».
То, что мы из этого сделали не может быть так важно, как то, что мы можем из этого сделать, когда мы поймем, как вернуть словам их значения. Так же, как нам нужны обычные жизненные задачи — почта, бакалейная лавка, еда и сон, — нам так же необходимо необычайное: разрушить самодовольство и невежество, дать нам возможность сделать что-то новое. Или, может быть, просто чтобы напомнить нам, что нет ничего обычного.
Или, может быть, просто чтобы напомнить нам, что нет ничего обычного.
Какую бы форму ни приняло возвращение — будь то безумие или видение — задача писателя состоит в том, чтобы не забывать о сложности как разрушительного опыта, так и необратимого изменения.
«Это ваша настоящая цель», — пишет Элиот в «Сухих остатках». «Не хорошо, а вперед».
В тот день в самолете Рильке вел меня: «Ты должен изменить свою жизнь». Но теперь, когда я вспоминаю тот день, я слышу голос Эда, говорящего: «Я ничего не знаю. Я только учусь видеть и слышать». Теперь я вижу, что это начало моего возвращения.
Ребекка Брок, недавняя выпускница писательских семинаров Беннингтонского колледжа, до сих пор работает бортпроводником. Это ее первая публикация .
Воспоминания, которые вы хотите забыть, труднее всего потерять — ScienceDaily
Болезненные, эмоциональные воспоминания, которые люди больше всего хотели бы забыть, могут быть труднее всего оставить позади, особенно когда воспоминания создаются с помощью визуальных сигналов.
«Когда вы смотрите новости по телевизору и видите кадры раненых солдат в Ираке или текущие репортажи о национальных трагедиях, это может зацепить вас больше, чем газетный заголовок», — сказал ведущий автор исследования Кит Пейн, ассистент профессор психологии Колледжа искусств и наук.
Он адаптивен, чтобы иметь возможность намеренно забывать нейтральные события, такие как неправильное направление, устаревший номер телефона друга или измененное время встречи. По словам Пейна, намеренное забывание помогает обновлять память новой информацией.
Но Пейн и бывшая аспирантка факультета психологии Элизабет Корриган обнаружили, что даже «мягкие» эмоциональные события, такие как плохая оценка за контрольную или негативный комментарий коллеги, бывает трудно забыть.
Когда люди пытаются преднамеренно забыть информацию, им необходимо мысленно отделить эту информацию, а затем заблокировать информацию, которую они не хотят извлекать, сказал Пейн.
Эмоции подрывают оба этих шага. «Вы устанавливаете много связей между эмоциональными событиями и другими частями вашей жизни, поэтому может быть трудно их изолировать. Поскольку эмоции блокируют поиск нежелательного события, они делают события очень заметными и, следовательно, очень доступными», — сказал Пейн.
Их результаты контрастируют с предыдущими исследованиями эмоциональных событий и преднамеренного забывания, но в этих исследованиях в качестве стимулов использовались насыщенные эмоциями слова, такие как «смерть» и «секс». В исследовании UNC был использован новый подход: 218 участников попросили реагировать на фотографии, а не на текст.
«Например, слово «убийство» может вызывать или не вызывать у вас страх, но если вы видите наглядную жестокую картину, она может быть достаточно эмоционально мощной, чтобы изменить ваши чувства», — сказал Пейн.
Исследователи обнаружили, что их испытуемые не могли преднамеренно забыть эмоциональные события так же легко, как обычные.
